
5 книг для понимания русского культурного кода

Вопросами о том, что посмотреть или что почитать, кажется, можно задаваться вечно и не один раз – в конце концов, любое хорошее произведение, будь то книга, фильм или сериал, увы, рано или поздно подходит к концу, оставляя своего зрителя или читателя в муках новых поисков. Впрочем, есть и хорошие новости.
Чтобы облегчить тебе задачу, каждую неделю мы просим нашего колумниста Константина Образцова – писателя, автора книг «Красные цепи», «Молот ведьм» и других, а также создателя шоу «Образцовое чтение» ВКонтакте и канала «Образцов» в Telegram – поделиться бриллиантами своей коллекции лучшего в мире литературы и сериалов.

Константин Образцов
Сегодня на повестке дня – 5 книг для понимания русского культурного кода.
Загадочная русская душа – мировой культурный мем.
Что мы имеем в виду, когда говорим про уникальность русской культуры? Есть ли вообще эта уникальность, и что в ней такого, чего, по словам Тютчева, «аршином общим не измерить»?
Для русской литературы, той самой, которую мы заслуженно называем великой, есть две главные темы: поиски смысла человеческой жизни и ответа на вопрос о собственной национальной идентичности. Если первое характерно для мирового искусства в целом, то второе – это исключительно наша, отечественная особенность. Ни в одной литературе мира нет столько напряженных размышлений об особенностях русской души и русского пути. Диккенс не терзает себя и читателя раздумьями про то, что такое быть англичанином, герои Сервантеса на спорят об особом испанском пути, Бальзак не восклицает, обращаясь к своей стране: «Франция! Куда несешься ты? Дай ответ!», но, по меткому замечанию Тургенева, «едва сойдется десять русских, мгновенно возникает вопрос о значении, о будущности России».
Вчера весь мир отмечал Международный день русского языка, а сегодня в нашей подборке сошлись не десять, но пять великих русских писателей, которые помогут нам ответить на вопрос об уникальности нашего национального культурного кода. Обыкновенно я стараюсь избегать категоричности в оценках и рекомендациях, но без знакомства с этими авторами и произведениями не стоит даже пробовать порассуждать о загадочной русской душе.
Н. С. Лесков, «Левша»

Сюжет наверняка все помнят: царь Николай находит удивительную механическую блоху, созданную английскими мастерами, и посылает казачьего атамана Платова в Тулу с тем, чтобы поручить русским умельцам дать на англосаксонское чудо свой ассиметричный ответ. Буквально первые попавшиеся тульские кузнецы, среди которых тот самый левша, проявляют необычайное мастерство и находчивость, и не только подковывают блоху, но и выбивают свои имена на подковах и шляпках гвоздей, которыми эти подковы крепятся к лапкам микроскопического насекомого.
Но мало кто задумывался: почему, обладая такими уникальными компетенциями, русские мастера не сделали сами ничего подобного? Почему предпочли подковать английскую блоху, а не соорудить, к примеру, русскую вошь?
Набоков называл Россию «страной без литературной традиции». Это так. Добавим, что и без образовательной, и без научной традиции тоже. В Европе были уже Данте, Бокаччо, Петрарка, Рабле, Вийон, Шекспир и Сервантес, когда на Руси только еще появлялось то, что можно назвать художественной литературой, а первое высшее учебное заведение открылось на 600 лет позже первого европейского университета. Этот феномен принято называть «великим русским молчанием». Его причины не в монгольском иге, а в специфически воспринятых ценностях восточного православия.
Зачем нужны слова, если есть Слово? Зачем писать, когда есть Писание? Зачем творить, когда есть Творец? Зачем создавать что-то, улучшая Его творение, если оно по определению безупречно? Зачем знать что-то, когда знать нужно одного Бога?
Для того, чтобы сделать что-то, русскому человеку нужен великий смысл, а если великого нет, то и никакого не надо. Неужели конструирование механической блохи – это достойное применение Богом данного таланта? Нет, конечно. А потому можно оставаться в созерцательном покое, совсем как Обломов на своем знаменитом диване, оппонент вечно деятельному и куда-то спешащему западному Штольцу.
М. Е. Салтыков-Щедрин, «Господа Головлевы»
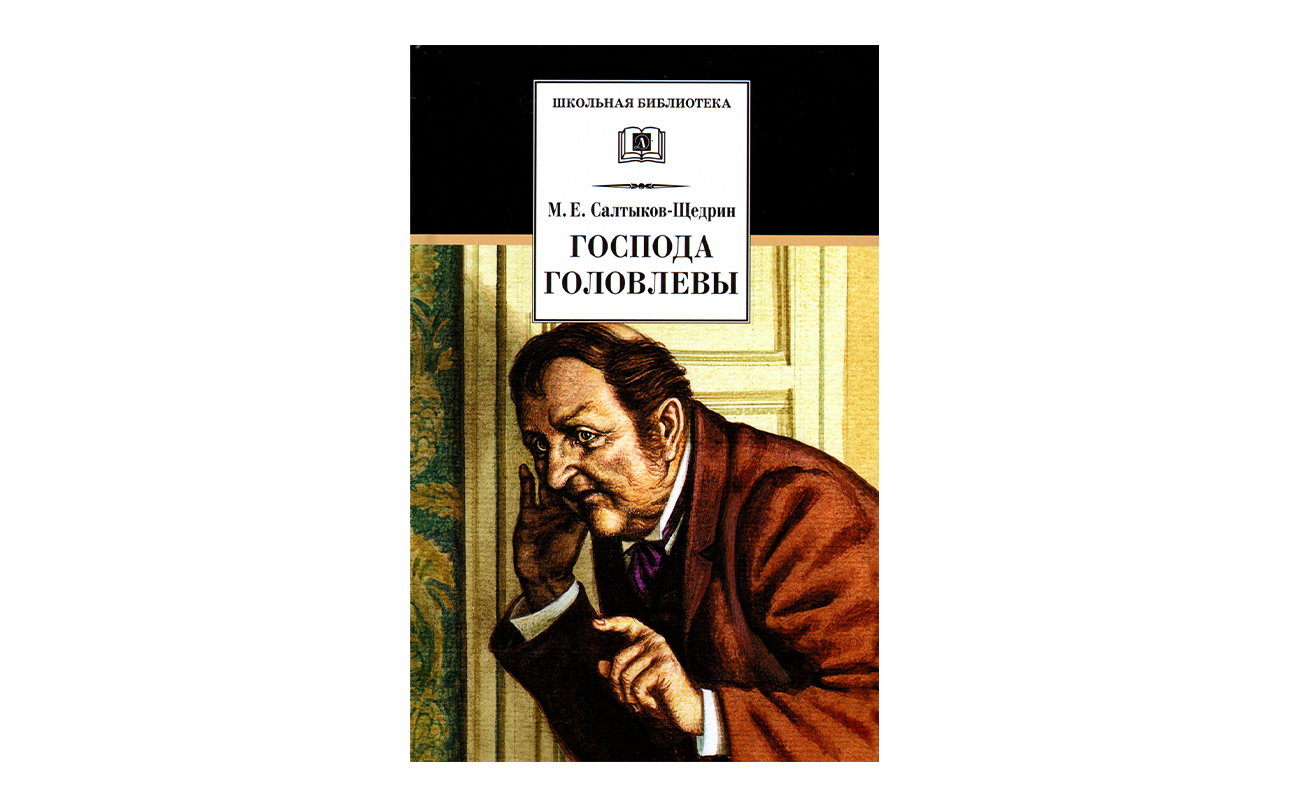
«Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают полтинник. Будет хуже, если за наш рубль будут давать в морду».
«Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства».
«Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».
Салтыков-Щедрин популярен сегодня в основном как автор множества мемных цитат, некоторые из которых приводятся неточно, а кое-какие и вовсе принадлежат не ему. Гораздо менее он знаменит как автор самого великого из малоизвестных и самого малоизвестного из великих романов русской классики.
«Господа Головлевы» — книга по-настоящему страшная. Точно одна из самых страшных в русской, а может, и в мировой литературе вообще. Все начинается, как «Наследники» или «Йеллоустоун» в декорациях глубинки Российской Империи, но очень быстро превращается в зловещую драму о родовом проклятии, в шекспировском стиле сводящую в гроб всех ее участников одного за другим.
Главный герой по имени Иудушка Головлев — слащаво-зловещий херувимчик, мамкин домашний садист, умиленно закатывающий глаза, рассуждающий о Божественном гневе: о гневе ему говорить приятно особенно, потому что любви он не понимает. Здесь вообще нет любви, но только злоба, нечистоплотность, жадность и душевная пустота, тщательно замаскированная лицемерной набожностью, ритуалы которой соблюдаются неукоснительно. Иудушка постоянно молится, разглагольствует о Боге и вере, не забывает «маслица деревянненького подлить в лампадочку», и напоминает русскую версию Горлума: кажется, что еще немного, и он прошипит «моя прелессссссть».
Иудушка словно распространяет умертвляющие флюиды, лишая жизни пространство вокруг, которое наполняется какой-то русской безысходностью, как будто на картинах Саврасова или Левитана. Покосившиеся избы, грязная дорога тянется через худое поле, за деревней прозрачный больной перелесок, и ты смотришь на всё это в окно с почерневшими рамами, между которыми сохнут дохлые мухи, и понимаешь – ты тут навсегда, все это – навечно.
За русской хтонью – сюда.
Ф. М. Достоевский, «Бесы»
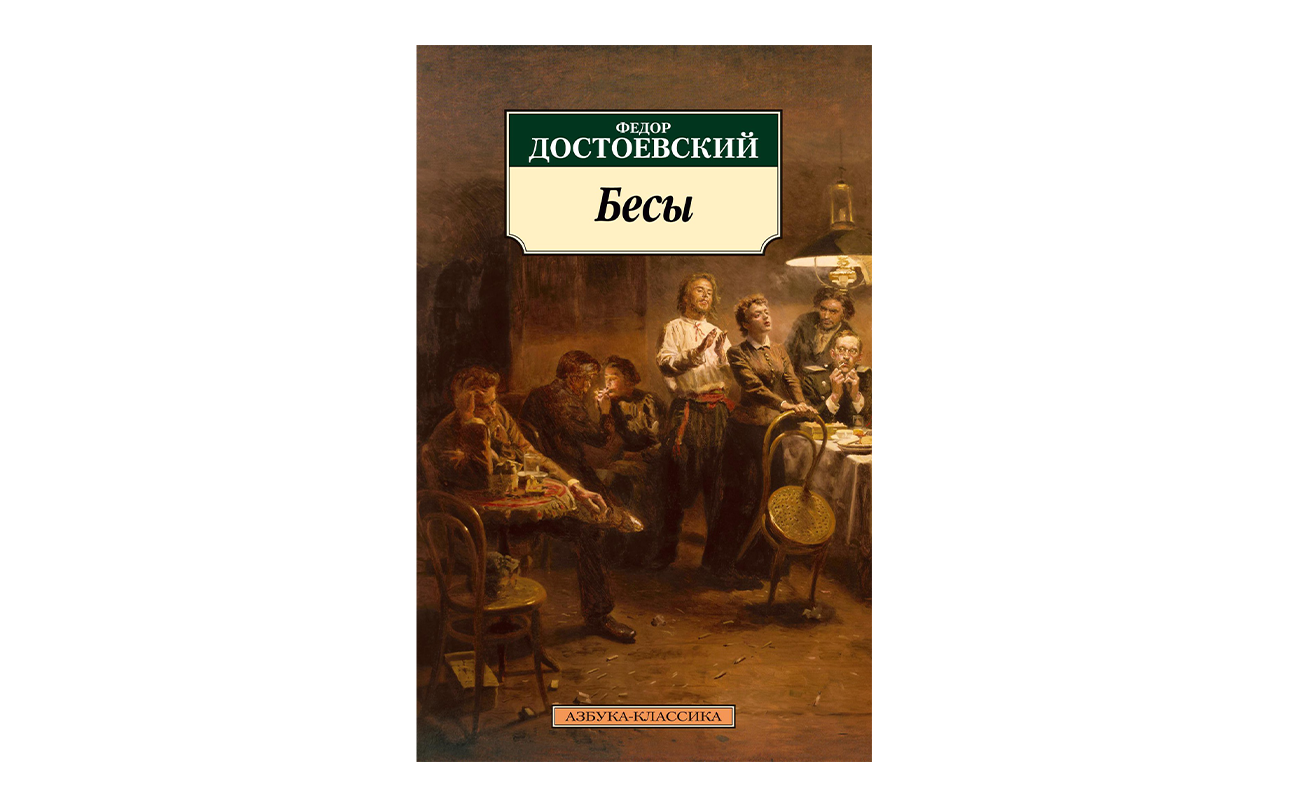
В декабре 1849 года на Семеновском плацу в Петербурге – сейчас это площадь перед Театром юного зрителя – состоялась казнь участников революционного кружка «петрашевцев». Эшафот, столбы, строй солдат, священник – все, как полагается по страшному ритуалу казни. Приговоренных разделили на тройки; первых трех подвели к расстрельным столбам, привязали и надели на головы мешки. Во второй тройке своей очереди ожидали поэт Алексей Плещеев, литератор Сергей Дуров и молодой писатель Федор Достоевский.
В последний момент расстрел заменили каторгой. Достоевский получил восемь лет. Обратно он вернулся совершенно другим человеком: монархистом, славянофилом и православным патриотом. Свою «петрашевскую» травму, увлечение революционными идеями, последующее от них отречение и постоянную внутреннюю полемику с ними Достоевский пронесет через всю жизнь и творчество.
Для зарубежного читателя Достоевский представляется самым самобытным из русских писателей и одним из самых популярных, наряду с Чеховым и Толстым. Причина тому в экзальтированности и эмоциональных крайностях, которыми живут его герои, что воспринимается как некая особенная русскость: тут же и о Боге поговорить, и водки выпить, и деньги швырнуть в огонь, и нож под ребро сунуть, и полюбить, и тут же проклясть.
«Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», — словами Мити Карамазова говорит сам Достоевский, и эта широта персонажей, происходящая из его собственной внутренней раздвоенности, тоже часть нашего культурного кода. Мы тоже не признаем середины. Наши архетипы – святой и разбойник. Мы стремимся к святости, но такой, чтобы уж без дураков: сто дней стоять и молиться на камне, тысячу дней поститься, молитвой сдвигать горы, вериги носить до кровавых мозолей. А если не вышло стать святым, тогда бросить все разом и податься в разбойники, и тоже такие, чтобы мир вздрогнул: персидскую княжну утопить, царем себя объявить, и торжественно сложить голову на плахе посреди площади.
Я написал в рекомендации «Бесы», но в каждом романе Достоевского мы увидим это наше русское метание от князя Мышкина к Парфену Рогожину, вечные споры о главном Ивана и Алеши Карамазовых, симпатию к страдающим преступникам, неприятие самодовольных подлецов, и убийцу с блудницей, склонившихся над Священным писанием.
А. П. Чехов, рассказы

Антон Павлович Чехов – трагический фотограф эпохи, и каждый из его коротких и длинных рассказов как отдельный снимок, яркий и выразительный. Все вместе складывается в одну картину, дающую ответ на вопрос о том, почему гибнут империи. Спойлер: не в голодных бунтах и не от происков иностранных агентов.
Принято считать, что Чехов писал смешные рассказы, но, как часто бывает, самые депрессивные, полные безысходности и черного отчаяния произведения – как раз смешные. Они про бессмысленность и пустоту обывательской, с виду благополучной и бесцельной жизни. Это жизнь, где не умеют любить и мечтать, где радости мелкие, а страдания пустые. Юноша ликует, когда в газете публикуют заметку о том, как он пьяным попал под лошадь. Чиновник всю жизнь посвящает тому, чтобы приобрести клочок земли и выращивать там крыжовник – но крыжовник кислый, а сам он в погоне за этой убогой мечтой теряет человеческий облик. Двое годами любят друг друга, но не имеют смелости ни бороться за свою любовь, ни признаться в ней, чтобы не нарушить привычное течение жизни.
Есть тезис о том, что главным врагом Чехова была пошлость. Пошлость, в отличие от обиходного применения этого слова, означает банальность, обывательскую обыденность, возведенную в норму и культ.
Мы уже говорили о том, что для русской культуры принципиально иметь великий смысл, и обывательское счастье его точно не заменит. Если нет настоящей любви, дела, цели, страдания, то все тщетно, пусто и тленно, но, чтобы любить по-настоящему, делать или страдать, нужна смелость, а вот ее как раз в сером мире благополучных обывателей нет и быть не может.
Из этой пустоты рождаются революции, потому что в России империи гибнут не в голодных бунтах, а от отсутствия смыслов.
Поэтому, кстати, Чехов так рифмовался с поздней советской эпохой, и потому так часто тогда экранизировался: гениальная «Неоконченная пьеса для механического пианино», например, квинтэссенция чеховских героев, образов, смыслов.
Аввакум Петров, «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим»

Я поставил эту книгу в конец нашего списка, чтобы устаревшие слова в названии не испугали сразу и не отбили желание читать всю подборку: «житие», да еще и «протопоп» звучат сегодня по меньшей мере непривычно. Но и хронологически, и по смыслу это произведение должно быть вначале.
Священник – «протопоп» это старая форма чуть более знакомого «протоиерей» — Аввакум Петров жил в XVII веке, который вошел в историю как «бунташный»: Смута, стрелецкий бунт, восстание Степана Разина и церковный раскол. Последний действительно расколол тогдашнее русское общество, и те, кто не принял чисто формальные изменения в религиозных обрядах, были готовы идти на мучения и страшную смерть, но не креститься тремя пальцами вместо двух и не добавлять еще одну букву «и» в имя «Исус». Одним из лидеров раскола был протопоп Аввакум.
В XVII веке Россия еще не знала настоящей авторской литературы. В ходу были церковные «жития святых», написанные по канонам, или строгие «поучения». Аввакум пишет свое собственное житие, и делает это живым, простонародным языком. Он, священник, не обращается к читателям с проповедью, но как будто присел вместе с ними у костра и просто рассказывает истории о своей жизни, пересыпая речь шутками и веселым забористым матом. Это было тогда совершенно немыслимо, но и сам Аввакум явление невероятное: невесть откуда взявшийся на Руси настоящий возрожденческий человек, бунтарь и консерватор, молитвенник и матерщинник, гуманист и традиционалист. В нем сошлись вместе все те крайности, свойственные русскому национальному характеру, о которым мы говорили.
Когда я впервые читал «Житие протопопа Аввакума», меня больше всего поразили два описанных им чуда.
Первое – когда его за исповедание старой веры посадили в монастырском подвале на цепь, где он сидел три дня без еды, в темноте, в компании блох и мышей. И вот в кромешном мраке, без сияния и небесных фанфар, появляется некто: берет за руку, подводит к лавке и ставит перед узником тарелку щей – очень хорошие, вкусные щи, так и написал потом! — и дает кусок хлеба. Ангел, решает Аввакум: ни дверь ни скрипела, ни замки не лязгали, кто же еще?..
Я не знаю чуда более русского, чем вот это тихое явление ангела, со щами и куском хлеба, брошенному в темницу за веру священнику – тут весь наш культурный код в каждом слове.
Второе – уже во время ссылки в Сибирь. Ссыльные шли в составе отряда казаков, вместе с женами и детьми, страшно мучались от мороза и голода. Аввакум пишет, что в тех скитаниях у него умерло двое маленьких сыновей. И вот – черная курочка, невесть откуда взявшаяся у него в обозе: клевала вместе с ними кашу из сосновой коры, а то и вовсе ничего не ела, но каждый день по два яичка несла! Тем и спаслись – ну, разве не чудо?
Черную курочку, кстати, потом задавили, переехав санями. А протопопа Аввакума сожгли.
И это тоже как-то очень по-русски.












